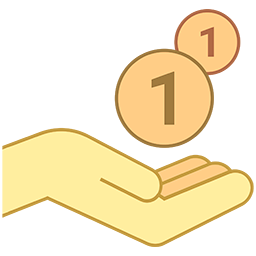Поддержите автора!
«Ты умер в январе, в начале года…». Тридцать лет назад не стало Иосифа Бродского

Смерть в поэзии Бродского не просто тема. Это даже не просто главная тема и постоянный предмет его поэтических медитаций. Конечность, смертность человека — один из ключевых факторов и даже своего рода принцип его поэтической философии. Он много и охотно писал о прощании: с друзьями, со страной, с жизнью (самый известный отклик — «На смерть Жукова»). Он хорошо знал и о своём больном сердце, о том, что в любой момент оно может не выдержать. Как это и случилось на самом деле. Отсюда стоический и как будто немного отстранённый взгляд на смерть, в том числе и собственную.
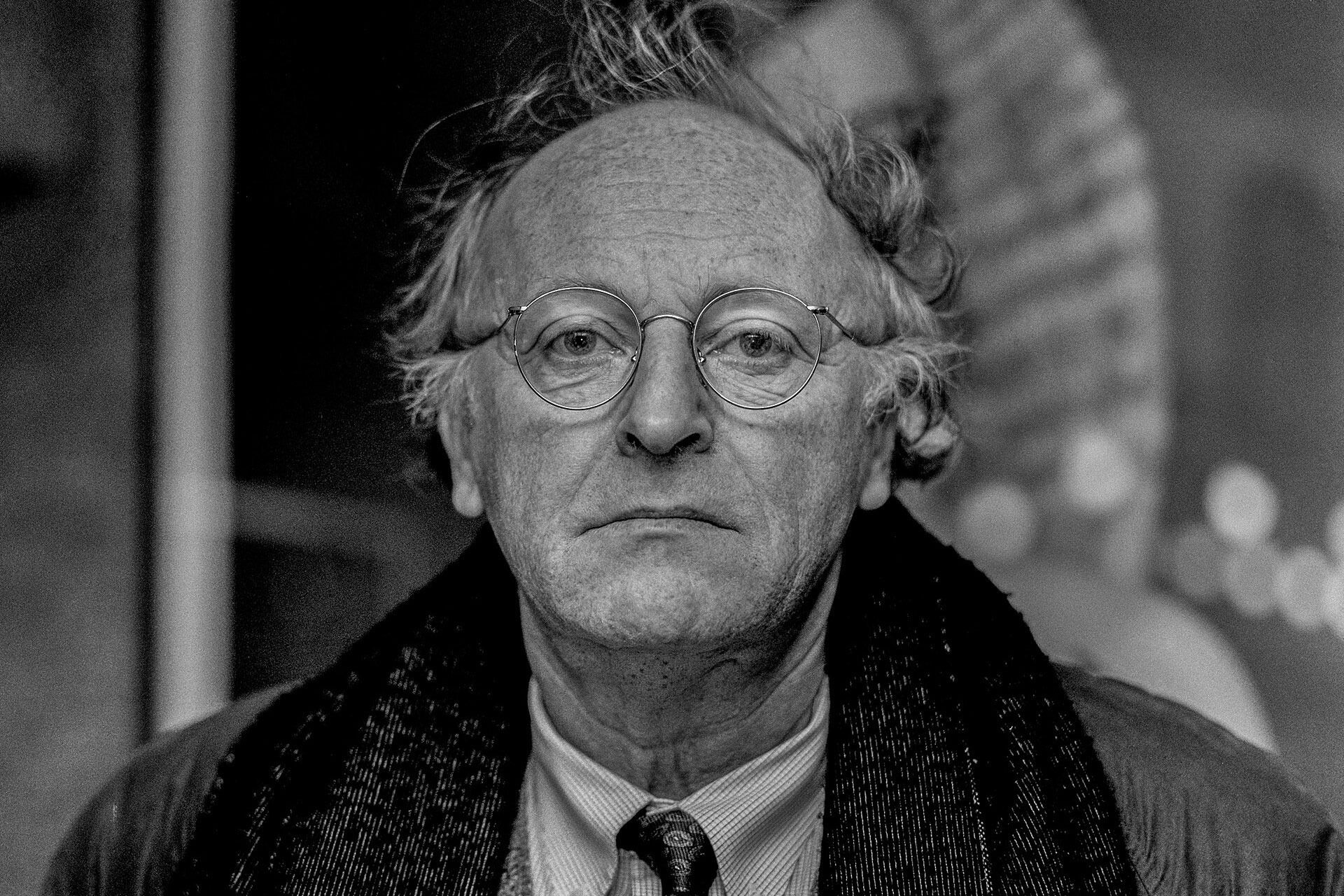
Глубокая медитация о смерти сродни настоящим духовным упражнениям в философии или религии. Поэтесса Ольга Седакова в интервью британской лингвистке Валентине Полухиной утверждает, что мышление Бродского глубоко мортально. В этом он, по её мнению, схож с главным философом ХХ века — Мартином Хайдеггером, который считал, что бытие человека как «бытие-к-смерти» полностью определяется этим — и реальным, и виртуальным — событием. Перед лицом смерти мы делаем этический выбор. В виду смерти мы открываем в себе свободу. Стремление если не преодолеть, то приостановить умирание, энтропию побуждает нас к творчеству. Словом, смерть это conditio humana — то, что делает человека человеком.
Неизвестно, читал ли Бродский Хайдеггера. Но его сосредоточенность на смертности, телесной бренности и немощи, деструктивной работе времени («время создано смертью») очень сильно выделяет его на фоне других поэтов — классиков ХХ века. Например, Арсений Тарковский считал, что «на свете смерти нет» и поэт это «тот, кто расставляет сети, когда идёт бессмертье косяком». Мандельштам, подобно Пушкину, надеялся воскреснуть «в книгах ласковых и в играх детворы». Бродский не считает, что поэзия — это билет в вечность, дарующий возможность «убежать тленья». Скорее поэзия — это то, что позволяет вникнуть в саму структуру времени, познать его, а тем самым — «реорганизовать» его враждебность и разрушительность, стоически приняв его и сделав из этого жизненно важные выводы.
Рассмотрим несколько его ярких текстов — в хронологическом порядке. Нам кажется важным такое приношение поэту, возродившему ценности свободы в русской литературе — за которые сегодня, к сожалению, вновь надо бороться.
«Ни страны, не погоста не хочу выбирать...» (1962)
Это «ранний Бродский» с тонким и обострённым лиризмом и одно из первый его стихотворений прощаний — в том числе и с родиной, и с жизнью. Оно написано в традициях петербургского текста русской литературы, в нём много городских примет, черт и чёрточек, но его стержневая ось — двойные образы (впрочем, и удвоение берётся из-за отражения в воде). И здесь нам открывается уже совсем другой смысл. Страна и погост: определение родины через кладбище, что само по себе вроде не так уж необычно («любовь к отеческим гробам»). Вот только чаще всего кладбище начинает быть «своим», когда на нём похоронены родные и близкие. Бродский же говорит о себе, то есть переносит действие в будущее, когда перед ним встанет выбор — но он не хочет его делать.
Важно место, куда его лирический герой приходит умирать: Васильевский остров. На нём было два кладбища, самое известное — Смоленское, которому посвящены стихи Анны Ахматовой и из которого вымываются гробы во время страшного наводнения, описанного в пушкинском «Медном всаднике». Другое кладбище — Благовещенское — не дошло до наших дней, и мне почему-то кажется, что Бродский имел в виду именно его. Если кладбище уничтожено, то стёрта и память о тех, кто на нём погребён, Бродский же отказывается от какой-либо посмертный идентификации, он не хочет выбирать погоста. (Само это слово, возможно, отсылка к старообрядчеству, ведь «погостов» в названиях кладбищ в Санкт-Петербурге нет). С «погостом» рифмуется «остров», и таким образом весь Васильевский становится пространством памяти.
Душа спешит во тьму на фоне промышленных дымов — один из самых удивительных образов города. Кажется, что эти дымы грозят поглотить душу, причём не ясно, куда именно она уходит, где тот «погост», чтобы упокоить не только тело. В итоге картина потрясающая и — чего уж там — «питерская»: физическое тело остаётся на асфальте, до кладбища оно не донесено. В финале этого стихотворения возникает знаменитый образ двух девочек, обращающихся к мёртвым. Две девочки — как две половины жизни: одна прожита, другая нет, одна — родина, другая — страна, где, как предчувствует поэт, он рано или поздно окажется. Вот только пока её подменяет смерть в образе второй девочки. Стихотворение написано таким размером, что напоминает детскую песенку и, несмотря на его тему, это одно из самых светлых размышлений о смерти.
«1 сентября 1939 года» (1967)
Текст о смерти в истории, предельно обезличенной — и вот почему. Бродский начинает его с главного места памяти всех советских людей: дети идут в школу, праздник, День знаний. Конечно, многие помнили, что ещё это и годовщина начала Второй мировой войны, но 22 июня 1941 года заместило собой эту дату в коллективной памяти. Стихотворение Бродского одно из первых, в которых он устанавливает свои личные и предельно тесные связи с Польшей. Он сразу описывает два господствовавших в советской (и в российской) науки мифа. Первый — как немцы ломают шлагбаум в Сопоте, городке между Гданьском и Гдыней. На самом деле это постановочная фотография, сделанная две недели спустя после начала вторжения. Но знать об этом Бродский, конечно, не мог — в отличие от другого мифа, разоблачённого достаточно быстро: об атаке польских улан на немецкие танки. Такого эпизода в неравном, но героическом сопротивлении польской армии всё-таки не было, хотя кавалерия ограниченно применялась.
Для Бродского здесь важнее предчувствие промышленного масштаба уничтожения, развязанного немцами. Танки не просто убивают людей и лошадей, но «разглаживают» их. Отсюда метафора переходит на знаменитый польский национальный головной убор — конфедератку, хорошо знакомую по истории XIX века, в том числе и польских восстаний против российской власти. В строгом смысле «разгладить» её невозможно, разве только сломав и разорвав. В итоге смерть как история предельно обезличенно. Нет почти никаких деталей, кроме жуткого действия танка-утюга, который в самом финале сравнивается с тучами, наплывающими уже на Ленинград, предрекая Блокаду. Стихотворение, обманчиво посвящённое 1 сентября, принимает совсем не детский оборот: лирический герой предлагает кому-то выпить водки, а уланы сравниваются с первоклассниками как первые жертвы Второй мировой войны. Для Бродского 1 сентября — не праздник. Как и в современной России это повод вспомнить жертв теракта в Беслане. Только раздавленная конфедератка намекает на выглаженную школьную форму. Но детей не слышно даже в доме: может быть, они ушли в школу. Или уже погибли вслед за теми самыми польскими уланами.
«Натюрморт» (1971) и «1972»
У зрелого Бродского, в 1970-90-е годы, нарастает жёсткая, порой безжалостная фиксация человеческой тленности. Один из самых ярких текстов такого рода — «1972 год». Здесь, как может показаться, Бродский форсирует тему собственной старости, телесного упадка, делая предметом предметом пристального внимания процесс физического умирания. Его лирический герой жалуется:
Старение! Здравствуй, моё старение!
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятую,
обувь скидая, спасаю ватою.
Всякий, кто мимо идёт с лопатою,
ныне объект внимания.
Можно подумать, что 32-летний поэт преувеличивает опасную близость старости и физического конца. Но дело не совсем в этом.
Во-первых, такая эскалация негативности в поэзии Бродского («не горизонт вижу я — знак минуса / к прожитой жизни») вполне объяснима биографическими обстоятельствами. 1972 год — это год изгнания, коренная перемена, экстремально знакомящая с утратой, с хрупкостью бытия и разрушительной силой времени и смерти. Во-вторых, вопреки поэтической традиции, Бродский мыслит поэзию (и искусство, культуру в целом) как нечто, что, проникая в самую суть логики вселенского «вычитания», становится «упражнением в умирании», искусством смерти. В стихотворении «1972 год» «знание правды», изгнания и боли обретается именно посредством приобщения к поэтическому делу. Горациански-пушкинский мотив памятника, воздвигаемого себе поэтом, оборачивается у Бродского темой опредмечивания, превращения самого тела поэта в «голую вещь», которой, в отличие от живого человека, не свойственно чувство ужаса. Позднее, уже незадолго до смерти, он напишет и свой памятник — стихотворение «Aerе perennius» (1995). Там будет фигурировать именно такая «вещь».
В стихотворении «Натюрморт» (1971) превращение в памятник, в статую выражено буквально на уровне соматических ощущений: «Венозная синева / мрамором отдаёт».
Но что же делать, если искусство никого не спасает, а соучаствует в мертвящем свершении времени? Один из ответов находим в том же «Натюрморте». Тема смерти, «мёртвой натуры» запускает здесь религиозные ассоциации, а именно — диалог Христа с Богоматерью, и решение проблемы смерти видится этически:
Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.
В стихотворении «1972 год» дело имеет другой оборот. Поэт призывает:
Бей в барабан о своём доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
«Памяти Геннадия Шмакова» (1989)
Здесь поэт работает со всеми привычными для себя образами. Пожалуй, главный из них — особое преломление смерти не только во времени, но и в пространстве. Смерть как всегда другая страна, дарящая необычные метафоры, резко смещающие это самое пространственные измерение. Само это смещение, похоже, и описывается как смерть. После смерти человек как «пассажир» обретает «вездесущность». «Безадресная страна» при жизни одна из самых печально известных метафор Советского Союза. Шмаков в этой «безадресности» был гражданином мира, но вместе с тем лишённым родины и даже не мог сказать, куда ему писать письма — по причине своей неугодности и неудобности для советской власти. После этого и происходит «перемена адреса». А Шмаков становится «эллином и латинистом» на «Севере»: опять необычное сопряжение в воображаемом пространстве греческой и римской цивилизаций — латинист её знаток, а вот эллин её носитель.
Бродский радикализирует важную для всего позднесоветского общество метафору, когда люди ощущали себя не в своём времени. В его случае это не только не «своё» время, но и не «своё» место. А если уж искать «свою» истинную свободу в прошлом, то совсем не в российском, а в другой цивилизации. Здесь срабатывает что-то вроде проверки на прочность: раз античная цивилизация оказалась вечной, то бессмертие обеспечено и тем людям, кто будет чувствовать с ней родство, тем, кто её переносит в день сегодняшний. Это бессмертие в смерти, которое дарует свободу.
В отношении посмертной участи души Бродский соединяет взгляды платоников, стоиков и христиан. С одной стороны, только после расставания с телом душа обретает свободу, становится как будто более настоящей, чем пока обитала в материальном мире. И она не распадается, её можно окликнуть. Она сохраняет какой-то свой особый состав, и неслучайно Бродский метафорически перечисляет разные «корпускулы», только уже лишённые страстей. Однако вдруг в эту платоническую образность вторгаются христианские мотивы, а именно упоминание херувимов и серафимов. Возможно, Бродский имеет в виду слова из молитвы-величания Богородицы «Достойно есть»: «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем». Только на сей раз эти эпитеты относятся к окрылённой душе. После этого происходит очередное «превращение» — и распад души на частицы. Нахождение всего во всём соответствует уже не платоническому, а стоическому учению о посмертной участи души, которая возвращается к своим природным истокам и растворяется в них. Бродский развёртывает эту метафору необычным образом: для него человек — ещё раз напомним о пространственном измерении — оказывается как бы с изнанки своей предшествующий жизни. Все места, где он бывал, обретают теперь совсем другой, как бы обратный смысл, и видятся с противоположной стороны: «Став ничем, человек — вопреки песне хора — во всем остается».
В своём самом известном цикле «Часть речи» Бродский произносит: «От всего человека вам остаётся часть. Часть речи вообще. Часть речи». Это — вновь вариация на пушкинское «весь я не умру». Но Бродский подчёркивает болезненно-трагический характер растворения человека в слове, поглощения его языком. Смерть природная и смерть культурная как бы соревнуются друг с другом за человеческую жизнь.
«Что ты делаешь, птичка, на чёрной ветке?..» (1993)
В позднем стихотворении Бродский описывает вечность словами птицы:
- Неправда! Меня привлекает вечность.
Я с ней знакома.
Ее первый признак — бесчеловечность.
И здесь я — дома.
Птицы, животные, вообще природные феномены, а также «тавтологические» явления жизни общественной (массовая культура и искусство, «банальность» политического зла) суть то, что повторяется. Поэтому всё это неистребимо, способно существовать вечно. Но такая вечность не знает индивидуальной жизни, на которую точит свои зубы время. Поэтому в вечности Бродского есть птицы, но нет людей.
Однако, как уже было сказано, и подлинное искусство, по Бродскому, не противостоит ничтожащей силе времени и смерти. Действуя с ними заодно, оно приобщает человека к неутешительной истине о тотальной трагичности жизни («Рухнем в объятья трагедии с готовностью ловеласа!»). Но из этого у Бродского следует отнюдь не пессимизм, как правило, скатывающийся в нигилистическое попрание любых ценностей. Его позицию можно назвать своеобразным этическим минимализмом: опыт умирания, к которому превентивно приобщает поэзия, делает человека чувствительным к ранимой и хрупкой жизни.
Опыт холода учит ценить минимум тепла. «Север меня воспитал и вложил перо / в пальцы, чтоб их согреть в горсти». В этом смысле, как говорил Бродский, эстетика действительно оказывается «матерью этики». Кажется, подобное мироощущение очень актуально для нас сегодняшних.